Адвокат Александр Станишевский
ЦФА: Эмиссия, Банкротство, Корпоративные Споры
Анализ проблематики правовой онтологии цифровых финансовых активов сквозь призму споров, предметом которых выступают ЦФА, УЦП и ГЦП
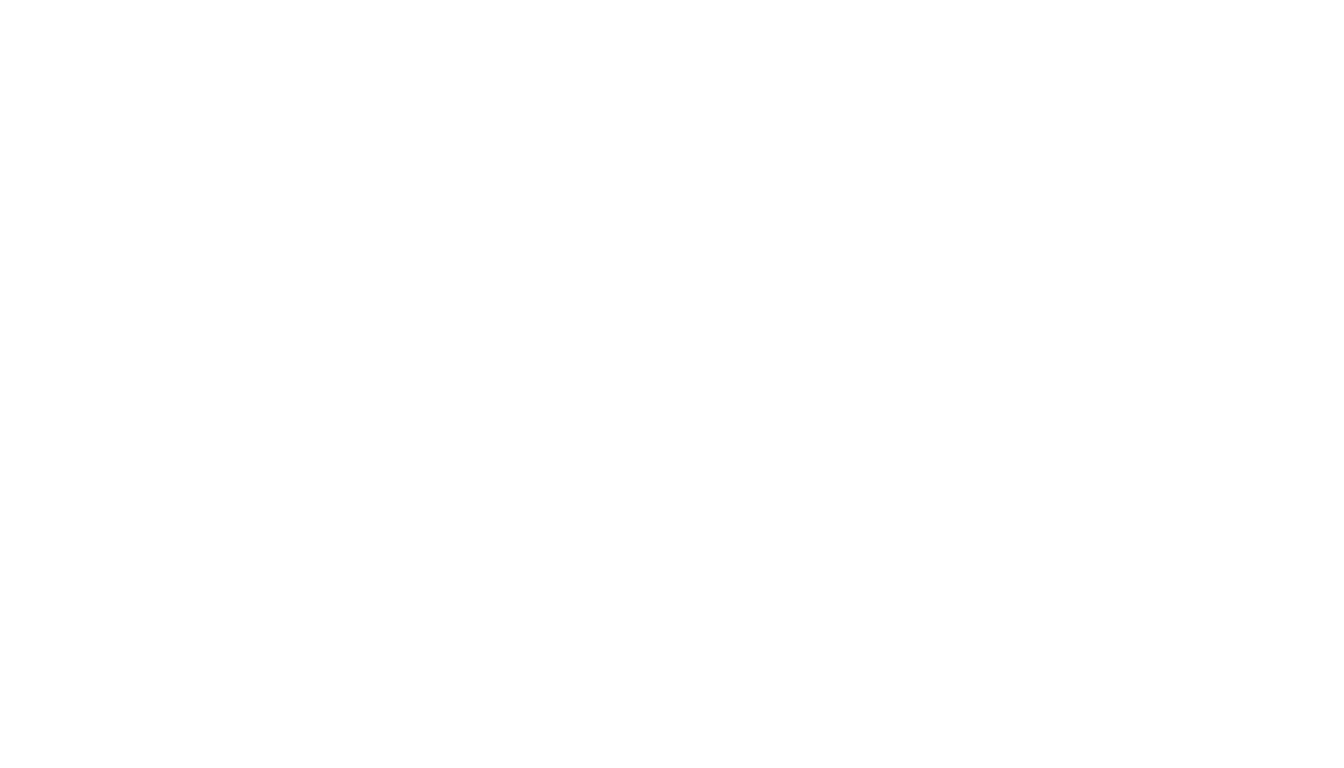
Оглавление
Что такое «цифровые права»?
Развернутый и доступно изложенный ответ на данный вопрос на это мы уже дали на странице юридических услуг в сфере IT. Поэтому вкратце отметим лишь, что цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в данной информационной системе без обращения к третьему лицу, а переход цифрового права на основании сделки не требует согласия лица, обязанного по такому цифровому праву. По умолчанию, если иное не предусмотрено нормативным правовым актом, обладателем цифрового права признается лицо, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом.
Таким образом, цифровые права — это обязательственные, корпоративные, имущественные (в том числе исключительные — в рамках интеллектуальной собственности) права, прямо указанные в законе как цифровые и реализующиеся в рамках определенной информационной системы, условия которой устанавливают содержание данных прав и механику осуществления сделок с ними и (или) по ним.
Два стандартных примера цифровых прав — цифровые финансовые активы (ЦФА) и утилитарные цифровые права (УЦП).
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов — учет и обращение ЦФА возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему, в который осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
Мы видим, что ЦФА могут быть нескольких типов (хотя один цифровой финансовый актив может включать в себя комплекс обязательственных и корпоративных прав), но, в общем и целом, цифровые финансовые активы по своей гражданского-правовой сущности являются неким оцифрованным двойником бездокументарных ценных бумаг. Если мы говорим о содержании в ЦФА денежного требования, то налицо некая аналогия облигации. В то же время, в соответствии со ст. 12 и 25 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции непубличного акционерного общества могут быть выпущены в виде цифровых финансовых активов при наличии в уставе соответствующих положений. То есть в данном случае законодатель юридически уравнял два объекта гражданского права, аналогизировав их в рамках урегулирования уставного капитала непубличного акционерного общества. В принципе, мы можем представить и иные типы ЦФА, которые могут включать в себя самый разный комплекс как имущественных, так и корпоративных прав. Например, вполне возможно на современном этапе рынка цифровых прав представить ЦФА, включающий в себя как обязанность выплатить определенную сумму с процентом, так и некие иные корпоративные обязательства, содержащиеся в ЦФА как механика присоединения к корпоративному договору с участниками общества, выступающими сторонами корпоративного договора. Также отметим, что именно институт ЦФА во многом позволяет создавать легализованные стейблкоины, привязанные к активам, у которых есть обязанное лицо — таким образом, ЦФА могут базироваться на простых и привилегированных акциях или же на стоимости любых других активов.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утилитарными цифровыми правами признаются цифровые права, содержащие в себе право требовать передачи вещи (вещей), право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности или право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг, реализующиеся в инвестиционной платформе, работающей на базе централизованного автоматизированного распределенного реестра.
Таким образом, УЦП представляют собой аналог производных финансовых инструментов. Хотя есть примеры, как утилитарным цифровым правом являлось право требования вещи не столько в инвестиционных целях, сколько в… маркетинговых? Например: гибридные цифровые права (совокупность ЦФА и УЦП в одном активе), удостоверяющие право на получение упаковки духов, торта или бутылки вина.
Таким образом, цифровые права — это обязательственные, корпоративные, имущественные (в том числе исключительные — в рамках интеллектуальной собственности) права, прямо указанные в законе как цифровые и реализующиеся в рамках определенной информационной системы, условия которой устанавливают содержание данных прав и механику осуществления сделок с ними и (или) по ним.
Два стандартных примера цифровых прав — цифровые финансовые активы (ЦФА) и утилитарные цифровые права (УЦП).
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов — учет и обращение ЦФА возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему, в который осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
Мы видим, что ЦФА могут быть нескольких типов (хотя один цифровой финансовый актив может включать в себя комплекс обязательственных и корпоративных прав), но, в общем и целом, цифровые финансовые активы по своей гражданского-правовой сущности являются неким оцифрованным двойником бездокументарных ценных бумаг. Если мы говорим о содержании в ЦФА денежного требования, то налицо некая аналогия облигации. В то же время, в соответствии со ст. 12 и 25 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции непубличного акционерного общества могут быть выпущены в виде цифровых финансовых активов при наличии в уставе соответствующих положений. То есть в данном случае законодатель юридически уравнял два объекта гражданского права, аналогизировав их в рамках урегулирования уставного капитала непубличного акционерного общества. В принципе, мы можем представить и иные типы ЦФА, которые могут включать в себя самый разный комплекс как имущественных, так и корпоративных прав. Например, вполне возможно на современном этапе рынка цифровых прав представить ЦФА, включающий в себя как обязанность выплатить определенную сумму с процентом, так и некие иные корпоративные обязательства, содержащиеся в ЦФА как механика присоединения к корпоративному договору с участниками общества, выступающими сторонами корпоративного договора. Также отметим, что именно институт ЦФА во многом позволяет создавать легализованные стейблкоины, привязанные к активам, у которых есть обязанное лицо — таким образом, ЦФА могут базироваться на простых и привилегированных акциях или же на стоимости любых других активов.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утилитарными цифровыми правами признаются цифровые права, содержащие в себе право требовать передачи вещи (вещей), право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности или право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг, реализующиеся в инвестиционной платформе, работающей на базе централизованного автоматизированного распределенного реестра.
Таким образом, УЦП представляют собой аналог производных финансовых инструментов. Хотя есть примеры, как утилитарным цифровым правом являлось право требования вещи не столько в инвестиционных целях, сколько в… маркетинговых? Например: гибридные цифровые права (совокупность ЦФА и УЦП в одном активе), удостоверяющие право на получение упаковки духов, торта или бутылки вина.
Выпуск ЦФА: гражданско-правовая характеристика
Выпуск ЦФА осуществляется в соответствующей информационной системе на основании решения о выпуске цифровых финансовых активов (ст. 3 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте…»). Решение о выпуске цифровых финансовых активов, размещенное в интернете на сайте эмитента и на сайте оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также адресованное неопределенному кругу лиц, является публичной офертой, за исключением решения о выпуске ЦФА, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, удостоверяющих право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг или удостоверяющих права участия в капитале непубличного акционерного общества — в решении о выпуске данных активов должно быть предусмотрено, что оно адресовано определенному кругу лиц.
Публичное размещение ценных бумаг (размещение ценных бумаг путем открытой подписки) вполне может сойти за публичную оферту, поскольку Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в статье 3 устанавливает, что данное размещение ценных бумаг характеризуется предложением ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе на организованных торгах и (или) с использованием рекламы. При этом публичным размещением ценных бумаг не является размещение на организованных торгах ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов или иных ценных бумаг, на размещение которых распространяются установленные федеральным законодательством требования и ограничения.
В цивилистической доктрине существует несколько подходов к определению правовой сущности эмиссии ценных бумаг, но в итоге мы можем выделить два основных воззрения на данный процесс: первый подход рассматривает эмиссию ценных бумаг как одностороннюю сделку, второй — как совокупность юридических фактов (одно- и многосторонних сделок и административных актов, совершаемых в установленном порядке, при факторе объединенности данных действий целью эмитента выпустить ценные бумаги в обращение).
Сторонники подхода «односторонней сделки» исходят из того, что в сердце эмиссии лежит одностороннее волеизъявление юридического лица эмитировать ценные бумаги. Сторонники «фактического состава» контраргументируют тем, что в ходе эмиссии недостаточно одного лишь решения об ней, поскольку важный элемент эмиссии — регистрация выпуска ценных бумаг Банком России — представляет собой индивидуальный административно-правовой акт. Будет вполне справедливо отметить, что второй подход представляется концептуально более обоснованным. Эмиссия ценных бумаг так или иначе характеризуется такими признаками, как структурированность (последовательность) и участие различных субъектов в самом процессе (помимо Банка России юридически значимую роль играют, например, приобретатель ценных бумаг, биржа, центральный депозитарий, брокер).
Но эмиссия («выпуск», как говорит закон) ЦФА представляет собой радикально иное юридическое содержание: во-первых, потенциальный эмитент должен вступить договорные отношения с оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов — в соответствии с правилами данной операционной системы ее оператор фактически «разрешает/не разрешает» субъекту выпустить ЦФА на своей платформе.
Конечно, ЦБ напрямую не участвует в эмиссии цифровых финансовых активов, но он так или иначе он устанавливает требования к правилам информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА. Назвать это прямым вмешательством в индивидуальные эмиссии цифровых финансовых активов мы не можем — просто отметим обще-контролирующую функцию Банка России в деятельности операторов ИС, но отметим, что участия Центробанка в отношениях по эмиссии ЦФА не больше, чем в отношениях по заключению договора банковского счета.
Во-вторых, эмитент обязан предоставить оператору информационной системы, в которой потенциально будет осуществлен выпуск ЦФА, решение о выпуске ЦФА, которое должно соответствовать требованиям, установленным ст. 3 Федерального закона N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Тут возникает вопрос: «Может ли решение о выпуске цифровых финансовых активов представлять собой одностороннюю сделку?» На мой взгляд, нет, данное действие не имеет признаков сделки по следующим причинам:
Публичное размещение ценных бумаг (размещение ценных бумаг путем открытой подписки) вполне может сойти за публичную оферту, поскольку Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в статье 3 устанавливает, что данное размещение ценных бумаг характеризуется предложением ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе на организованных торгах и (или) с использованием рекламы. При этом публичным размещением ценных бумаг не является размещение на организованных торгах ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов или иных ценных бумаг, на размещение которых распространяются установленные федеральным законодательством требования и ограничения.
В цивилистической доктрине существует несколько подходов к определению правовой сущности эмиссии ценных бумаг, но в итоге мы можем выделить два основных воззрения на данный процесс: первый подход рассматривает эмиссию ценных бумаг как одностороннюю сделку, второй — как совокупность юридических фактов (одно- и многосторонних сделок и административных актов, совершаемых в установленном порядке, при факторе объединенности данных действий целью эмитента выпустить ценные бумаги в обращение).
Сторонники подхода «односторонней сделки» исходят из того, что в сердце эмиссии лежит одностороннее волеизъявление юридического лица эмитировать ценные бумаги. Сторонники «фактического состава» контраргументируют тем, что в ходе эмиссии недостаточно одного лишь решения об ней, поскольку важный элемент эмиссии — регистрация выпуска ценных бумаг Банком России — представляет собой индивидуальный административно-правовой акт. Будет вполне справедливо отметить, что второй подход представляется концептуально более обоснованным. Эмиссия ценных бумаг так или иначе характеризуется такими признаками, как структурированность (последовательность) и участие различных субъектов в самом процессе (помимо Банка России юридически значимую роль играют, например, приобретатель ценных бумаг, биржа, центральный депозитарий, брокер).
Но эмиссия («выпуск», как говорит закон) ЦФА представляет собой радикально иное юридическое содержание: во-первых, потенциальный эмитент должен вступить договорные отношения с оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов — в соответствии с правилами данной операционной системы ее оператор фактически «разрешает/не разрешает» субъекту выпустить ЦФА на своей платформе.
Конечно, ЦБ напрямую не участвует в эмиссии цифровых финансовых активов, но он так или иначе он устанавливает требования к правилам информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА. Назвать это прямым вмешательством в индивидуальные эмиссии цифровых финансовых активов мы не можем — просто отметим обще-контролирующую функцию Банка России в деятельности операторов ИС, но отметим, что участия Центробанка в отношениях по эмиссии ЦФА не больше, чем в отношениях по заключению договора банковского счета.
Во-вторых, эмитент обязан предоставить оператору информационной системы, в которой потенциально будет осуществлен выпуск ЦФА, решение о выпуске ЦФА, которое должно соответствовать требованиям, установленным ст. 3 Федерального закона N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Тут возникает вопрос: «Может ли решение о выпуске цифровых финансовых активов представлять собой одностороннюю сделку?» На мой взгляд, нет, данное действие не имеет признаков сделки по следующим причинам:
- закон сам не признает данное решение сделкой вообще. Размещенное оператором решение о выпуске цифровых финансовых активов, адресованное неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой. Если мы говорим о выпуске ЦФА, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам или удостоверяющих право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг или удостоверяющих права участия в капитале непубличного акционерного общества, то соответствующее решение о выпуске ЦФА (размещено оно в интернете на сайте оператора или нет) приобретает признаки оферты, не являющейся публичной. В силу ст. 435 ГК РФ оферта — это направленное иным субъектам предложение о совершении сделки, но не сделка;
- решение о выпуске ЦФА не имеет какой-либо юридической силы до «одобрения» оператором информационной системы, с которым на момент вынесения упомянутого решения потенциальный эмитент либо находится в гражданско-правовых отношениях, либо находится в переговорах о заключении договора. Само по себе вынесение решения о выпуске ЦФА не приводит к какому-либо установлению, изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей при факторе достаточности воли выносящей решение стороны — как раз-таки совсем наоборот: после вынесения соответствующего решения и направления его оператору цифровых финансовых активов именно у оператора появляются определенные обязанности, связанные с процедурой размещением данного решения. При этом оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, имеет полное право не «выпускать» ЦФА, если решение о выпуске ЦФА не соответствует требованиям ст. 3 Федерального закона «О цифровых финансовых активах».
Банкротство и цифровые права: проблемы защиты интересов обладателей ЦФА и УЦП при банкротстве операторов информационных систем
Данный материал размещен в «Адвокатской Газете». В настоящей публикации приводится полностью авторский неотредактированный текст
Введение в 2019-ом году в Гражданский кодекс РФ ст. 141.1 «Цифровые права» вызвало единую настороженную реакцию в цивилистическом сообществе: в общем доктрина сокрушалась о том, что категория «цифровые права» не вносит в гражданское право новшества, а лишь приводит лингво-диджитализированную версию обыкновенного права требования. При этом отмечалось, что само определение понятия «цифровые права» во многом сходилось с определением термина «бездокументарные ценные бумаги». Российская цивилистика единогласно заключила: здесь не идет речи о новом объекте гражданских прав, а устанавливается новая форма их фиксации.
В 2020-ом году вступает в силу Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон об инвестиционных платформах) и в ст. 8 вводит такую разновидность цифровых прав, как «утилитарные цифровые права» (далее — УЦП), под которыми понимаются права требования передачи вещей; оказания услуг; выполнения работ; отчуждения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности в рамках соответствующей инвестиционной платформы. В 2021 году Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон о ЦФА) вводит «цифровые финансовые активы», под которыми в ст. 1 Закона о ЦФА понимаются цифровые права, содержанием которых являются обязательственные и (или) корпоративные права, предусмотренные решением о выпуске цифровых финансовых активов в установленном порядке.
Правоведы вновь выразили негодование в связи с «описанием старого новыми терминами», дублированием ЦФА бездокументарных ценных бумаг, повторением в УЦП облигаций и производных финансовых инструментов, а также по многим другим аспектам. Обширной критике подверглось решение законодателя применить термин «выпуск» для обобщения действий по созданию ЦФА, ведь такой понятийная рокировка грубо противоречила ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в которой выпуском ценных бумаг провозглашалась совокупность равноценных ценных бумаг одного эмитента с присвоенным регистрационным номером. Многие представители доктрины (также и со стороны экономических наук) справедливо недоумевали почему в Законе о ЦФА «эмиссию» назвали «выпуском».
Но как бы там не было, ЦФА и УЦП просочились в экономическое пространство страны, хоть и не в таких значительных масштабах. На дату обнародования данной публикации ЦФА пока еще не сыскали популярности или даже стойкого доверия у розничных инвесторов — те же инвестиционные консультанты призывают относиться к ЦФА осторожно и редко рекомендуют их для включения в портфель. Намного лучше дела обстоят у сферы регулирования Закона об инвестиционных платформах — бизнес пользуется данными ресурсами для привлечения различного объема капитала, но привлечение инвестиций с использованием УЦП до сих пор не получило широкого признания.
Тем временем реестры операторов информационных систем и операторов инвестиционных платформ продолжают пополняться новыми лицами. В вышеуказанных реестрах появились как известные крупные фигуры финансового рынка, так и менее узнаваемые субъекты малого и среднего предпринимательства.
Законом о ЦФА вносились изменения в самые разные нормативные акты, и один из них — Закон о банкротстве, где в ст. 2 цифровую валюту (криптовалюту) спустя долгий путь судебных распрей признали имуществом на законодательном уровне. Закон об инвестиционных платформах же не вносил изменений в Закон о банкротстве. Таким образом, «реформа цифрового права» только частично затронула банкротное право, ограничившись лишь обязательностью включения криптовалюты в конкурсную массу должника. Вполне очевидно, что ЦФА, УЦП и гибридные цифровые права (в соответствии с п. 6 ст. 1 Закона о ЦФА и п. 13 ст. 8 Закона об инвестиционных платформах ГЦП включают в себя одновременно ЦФА и УЦП) по смыслу Закона о банкротстве подлежат включению в конкурсную массу как и любая другая бездокументарная ценная бумага или дебиторская задолженность. Банкротно-правовые проблемы в данном случае простираются в немного другой плоскости.
Специальный признак цифровых прав — осуществление и распоряжение таким правом возможно только в рамках информационной системы без обращения к третьему лицу. Здесь возникает множество проблем, связанных с банкротством оператора инвестиционной платформы или оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов: любой обладатель цифровых прав несет существенные риски их потери в связи с угрозой исчезновения соответствующей информационной системы.
Информационная система может быть продана в составе предприятия должника, и тут особых проблем нет. Отметим лишь, что победителем конкурса — в отношении продажи предприятия с обсуждаемыми нами информационными системами будет проводиться именно конкурс, поскольку продажа инвестиционной платформы или информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, всегда сопровождается с обязанностью покупателя обеспечить надлежащее функционирование информационной системы (ст. 6 Закона о ЦФА, ст. 10−11 Закона об инвестиционных платформах) — может быть только лицо, сведения о котором внесены Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ или операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА.
Но когда встает вопрос о продаже информационной системы отдельно от предприятия должника, то неизбежно возникает проблема комплексности реализации данного актива. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее — Закон об информации) оператором информационной системы является собственник используемых для обработки содержащейся в базах данных информации технических средств, который правомерно пользуется такими базами данных, или лицо, с которым этот собственник заключил договор об эксплуатации информационной системы (и данное определения полностью применимо также и у субъектам обсуждаемых Закона о ЦФА и Закона об инвестиционных платформах). Проблема в том, что определение «технических средств» в законодательстве РФ не приводится, а гражданско-правовое интерпретирование вышеприведенного термина компьютерных наук приводит нас к заключению о том, что «технические средства» суть «вещи» по смыслу ГК РФ.
В современном гражданском обороте собственник вещей (технических средств) и правообладатель базы данных (а также иных объектов информационного права или права интеллектуальной собственности, которые используются для осуществления функционирования информационной системы) могут не совпадать. Но когда мы говорим об информационной системе на основе распределенного реестра (п. 7 ст. 1 Закона о ЦФА) со множеством узлов — де-факто ЭВМ пользователями информационной системы (п. 8 ст. 1 Закона о ЦФА) — то мы неизбежно заходим в тупик: собственниками и (или) эксплуататорами технических средств в таком случае выступают все пользователи системы, а не только лишь ее оператор. Вмешательство законодателя в Закон об информации легко бы разрешило данную проблему: стоит или включить в «технические средства» информационные технологии, или признать оператором информационной системы лицо, использующим информационные технологии (программы для ЭВМ, базы данных и иные нематериальные объекты) для обеспечения функционирования информационной системы.
Следующая проблема — обеспечение передачи инвестиционной платформы или информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, другому оператору. В п. 10 ст. 7 Закона о ЦФА и Указании Банка России от 25.06.2021 N 5828-У устанавливается обязанность исключенного из реестра вследствие нарушения законодательства оператора обеспечить передачу хранящейся в информационной системе сводной информации с ключями дешифрования оператору иной информационной системы. В приведенном случае говорится о передаче определенных объектов информации, но не информационной системы как таковой — как видим, законодатель и ЦБ избегают термина «технические средства», поэтому можно говорить о том, что информационная система как таковая не передается, но иному оператору предоставляется полный доступ к ней, и так другое лицо де-факто становится оператором данной системы, хоть в законе об этом прямо не говориться. В Законе об инвестиционных платформах Банк России не имеет полномочия исключения из реестра — он может лишь полностью или частично ограничить оказание оператором инвестиционной платформы услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании и (или) потребовать от оператора инвестиционной платформы замены лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа. Допустимы ли подобные подходы в конкурсном производстве? Очевидно, нет.
Очередная проблема возникнет, когда информационную систему как таковую не получится реализовать на банкротных торгах. Это может произойти, если иные операторы не проявят интереса к приобретению данного актива. В таком случае, как подсказывает логика закона о банкротстве, есть иной выход, непременно ведущий к прекращению существования информационной системы — отдельная продажа технических средств (серверов, например) как вещей и программ для ЭВМ, с помощью которых система функционировала. Без обязательства покупателя поддерживать «жизнь» информационной системы ее просто не станет, ведь приобретатель соответствующего имущества или исключительного права вправе использовать данные объекты в совсем отличных целях.
Как в случае банкротства оператора будет продаваться информационная система, от существования которой зависят цифровые права пользователей? Какие права и обязанности существуют у Банка России в такой ситуации? Можно ли применять по аналогии нормы о банкротстве финансовых организаций в случаях банкротств операторов рассмотренных нами информационных систем? Как обеспечиваются права инвесторов-обладателей ЦФА, УЦП и ГЦП в деле о банкротстве? Ни на один из этих вопросов в законодательстве РФ нет ответов.
Конечно, например, в случае банкротства непубличного акционерного общества, выпустившего акции в виде ЦФА, обладатели ЦФА будут приравниваться к типичным акционерам банкротящагося АО. Но даже в таком, казалось бы, привычном деле встает проблема существования информационной системы: напрашивается необходимость законодательного наделения арбитражного управляющего обязанностью заниматься организацией поддержания функционирования информационной системы — хотя бы до удовлетворения требований обладателей ЦФА, УПЦ и ГЦП, поскольку их цифровые права существуют постольку, поскольку существует информационная система.
Закон о ЦФА, Закон об инвестиционных платформах и Закон о банкротстве не содержат норм, защищающих интересы инвесторов-обладателей цифровых прав в случае банкротства оператора. На самом деле к подобным ситуациям относительно неплохо применимы нормы Закона о банкротстве, регулирующие банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации. В делах о банкротстве оператора информационной системы, например, также необходимо ведение реестра обладателей ЦФА, УЦП и ГЦП, и напрашивается механизм привлечения реестродержателя при превышении определенного показателя количества пользователей.
Нормы, регулирующие банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг, давно уже критикуют за недостаточность и неполноценность. Многим предложениям доктрины уже более 10-ти лет. Было бы разумно провести комплексное дополнение вышеуказанных норм Закона о банкротстве с добавлением туда положений, регулирующих банкротство операторов инвестиционных платформ и операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА. Иначе банкротно-правовые риски области цифровых прав продолжат оказывать негативное влияние на привлекательность данного финансового инструмента, а ЦФА, УЦП и ГЦП при всем своем потенциале так и останутся невостребованными.
В 2020-ом году вступает в силу Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон об инвестиционных платформах) и в ст. 8 вводит такую разновидность цифровых прав, как «утилитарные цифровые права» (далее — УЦП), под которыми понимаются права требования передачи вещей; оказания услуг; выполнения работ; отчуждения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности в рамках соответствующей инвестиционной платформы. В 2021 году Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон о ЦФА) вводит «цифровые финансовые активы», под которыми в ст. 1 Закона о ЦФА понимаются цифровые права, содержанием которых являются обязательственные и (или) корпоративные права, предусмотренные решением о выпуске цифровых финансовых активов в установленном порядке.
Правоведы вновь выразили негодование в связи с «описанием старого новыми терминами», дублированием ЦФА бездокументарных ценных бумаг, повторением в УЦП облигаций и производных финансовых инструментов, а также по многим другим аспектам. Обширной критике подверглось решение законодателя применить термин «выпуск» для обобщения действий по созданию ЦФА, ведь такой понятийная рокировка грубо противоречила ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в которой выпуском ценных бумаг провозглашалась совокупность равноценных ценных бумаг одного эмитента с присвоенным регистрационным номером. Многие представители доктрины (также и со стороны экономических наук) справедливо недоумевали почему в Законе о ЦФА «эмиссию» назвали «выпуском».
Но как бы там не было, ЦФА и УЦП просочились в экономическое пространство страны, хоть и не в таких значительных масштабах. На дату обнародования данной публикации ЦФА пока еще не сыскали популярности или даже стойкого доверия у розничных инвесторов — те же инвестиционные консультанты призывают относиться к ЦФА осторожно и редко рекомендуют их для включения в портфель. Намного лучше дела обстоят у сферы регулирования Закона об инвестиционных платформах — бизнес пользуется данными ресурсами для привлечения различного объема капитала, но привлечение инвестиций с использованием УЦП до сих пор не получило широкого признания.
Тем временем реестры операторов информационных систем и операторов инвестиционных платформ продолжают пополняться новыми лицами. В вышеуказанных реестрах появились как известные крупные фигуры финансового рынка, так и менее узнаваемые субъекты малого и среднего предпринимательства.
Законом о ЦФА вносились изменения в самые разные нормативные акты, и один из них — Закон о банкротстве, где в ст. 2 цифровую валюту (криптовалюту) спустя долгий путь судебных распрей признали имуществом на законодательном уровне. Закон об инвестиционных платформах же не вносил изменений в Закон о банкротстве. Таким образом, «реформа цифрового права» только частично затронула банкротное право, ограничившись лишь обязательностью включения криптовалюты в конкурсную массу должника. Вполне очевидно, что ЦФА, УЦП и гибридные цифровые права (в соответствии с п. 6 ст. 1 Закона о ЦФА и п. 13 ст. 8 Закона об инвестиционных платформах ГЦП включают в себя одновременно ЦФА и УЦП) по смыслу Закона о банкротстве подлежат включению в конкурсную массу как и любая другая бездокументарная ценная бумага или дебиторская задолженность. Банкротно-правовые проблемы в данном случае простираются в немного другой плоскости.
Специальный признак цифровых прав — осуществление и распоряжение таким правом возможно только в рамках информационной системы без обращения к третьему лицу. Здесь возникает множество проблем, связанных с банкротством оператора инвестиционной платформы или оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов: любой обладатель цифровых прав несет существенные риски их потери в связи с угрозой исчезновения соответствующей информационной системы.
Информационная система может быть продана в составе предприятия должника, и тут особых проблем нет. Отметим лишь, что победителем конкурса — в отношении продажи предприятия с обсуждаемыми нами информационными системами будет проводиться именно конкурс, поскольку продажа инвестиционной платформы или информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, всегда сопровождается с обязанностью покупателя обеспечить надлежащее функционирование информационной системы (ст. 6 Закона о ЦФА, ст. 10−11 Закона об инвестиционных платформах) — может быть только лицо, сведения о котором внесены Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ или операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА.
Но когда встает вопрос о продаже информационной системы отдельно от предприятия должника, то неизбежно возникает проблема комплексности реализации данного актива. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее — Закон об информации) оператором информационной системы является собственник используемых для обработки содержащейся в базах данных информации технических средств, который правомерно пользуется такими базами данных, или лицо, с которым этот собственник заключил договор об эксплуатации информационной системы (и данное определения полностью применимо также и у субъектам обсуждаемых Закона о ЦФА и Закона об инвестиционных платформах). Проблема в том, что определение «технических средств» в законодательстве РФ не приводится, а гражданско-правовое интерпретирование вышеприведенного термина компьютерных наук приводит нас к заключению о том, что «технические средства» суть «вещи» по смыслу ГК РФ.
В современном гражданском обороте собственник вещей (технических средств) и правообладатель базы данных (а также иных объектов информационного права или права интеллектуальной собственности, которые используются для осуществления функционирования информационной системы) могут не совпадать. Но когда мы говорим об информационной системе на основе распределенного реестра (п. 7 ст. 1 Закона о ЦФА) со множеством узлов — де-факто ЭВМ пользователями информационной системы (п. 8 ст. 1 Закона о ЦФА) — то мы неизбежно заходим в тупик: собственниками и (или) эксплуататорами технических средств в таком случае выступают все пользователи системы, а не только лишь ее оператор. Вмешательство законодателя в Закон об информации легко бы разрешило данную проблему: стоит или включить в «технические средства» информационные технологии, или признать оператором информационной системы лицо, использующим информационные технологии (программы для ЭВМ, базы данных и иные нематериальные объекты) для обеспечения функционирования информационной системы.
Следующая проблема — обеспечение передачи инвестиционной платформы или информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, другому оператору. В п. 10 ст. 7 Закона о ЦФА и Указании Банка России от 25.06.2021 N 5828-У устанавливается обязанность исключенного из реестра вследствие нарушения законодательства оператора обеспечить передачу хранящейся в информационной системе сводной информации с ключями дешифрования оператору иной информационной системы. В приведенном случае говорится о передаче определенных объектов информации, но не информационной системы как таковой — как видим, законодатель и ЦБ избегают термина «технические средства», поэтому можно говорить о том, что информационная система как таковая не передается, но иному оператору предоставляется полный доступ к ней, и так другое лицо де-факто становится оператором данной системы, хоть в законе об этом прямо не говориться. В Законе об инвестиционных платформах Банк России не имеет полномочия исключения из реестра — он может лишь полностью или частично ограничить оказание оператором инвестиционной платформы услуг по привлечению инвестиций и услуг по содействию в инвестировании и (или) потребовать от оператора инвестиционной платформы замены лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа. Допустимы ли подобные подходы в конкурсном производстве? Очевидно, нет.
Очередная проблема возникнет, когда информационную систему как таковую не получится реализовать на банкротных торгах. Это может произойти, если иные операторы не проявят интереса к приобретению данного актива. В таком случае, как подсказывает логика закона о банкротстве, есть иной выход, непременно ведущий к прекращению существования информационной системы — отдельная продажа технических средств (серверов, например) как вещей и программ для ЭВМ, с помощью которых система функционировала. Без обязательства покупателя поддерживать «жизнь» информационной системы ее просто не станет, ведь приобретатель соответствующего имущества или исключительного права вправе использовать данные объекты в совсем отличных целях.
Как в случае банкротства оператора будет продаваться информационная система, от существования которой зависят цифровые права пользователей? Какие права и обязанности существуют у Банка России в такой ситуации? Можно ли применять по аналогии нормы о банкротстве финансовых организаций в случаях банкротств операторов рассмотренных нами информационных систем? Как обеспечиваются права инвесторов-обладателей ЦФА, УЦП и ГЦП в деле о банкротстве? Ни на один из этих вопросов в законодательстве РФ нет ответов.
Конечно, например, в случае банкротства непубличного акционерного общества, выпустившего акции в виде ЦФА, обладатели ЦФА будут приравниваться к типичным акционерам банкротящагося АО. Но даже в таком, казалось бы, привычном деле встает проблема существования информационной системы: напрашивается необходимость законодательного наделения арбитражного управляющего обязанностью заниматься организацией поддержания функционирования информационной системы — хотя бы до удовлетворения требований обладателей ЦФА, УПЦ и ГЦП, поскольку их цифровые права существуют постольку, поскольку существует информационная система.
Закон о ЦФА, Закон об инвестиционных платформах и Закон о банкротстве не содержат норм, защищающих интересы инвесторов-обладателей цифровых прав в случае банкротства оператора. На самом деле к подобным ситуациям относительно неплохо применимы нормы Закона о банкротстве, регулирующие банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющей компании, клиринговой организации. В делах о банкротстве оператора информационной системы, например, также необходимо ведение реестра обладателей ЦФА, УЦП и ГЦП, и напрашивается механизм привлечения реестродержателя при превышении определенного показателя количества пользователей.
Нормы, регулирующие банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг, давно уже критикуют за недостаточность и неполноценность. Многим предложениям доктрины уже более 10-ти лет. Было бы разумно провести комплексное дополнение вышеуказанных норм Закона о банкротстве с добавлением туда положений, регулирующих банкротство операторов инвестиционных платформ и операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА. Иначе банкротно-правовые риски области цифровых прав продолжат оказывать негативное влияние на привлекательность данного финансового инструмента, а ЦФА, УЦП и ГЦП при всем своем потенциале так и останутся невостребованными.
Корпоративные споры и цифровые финансовые активы: к вопросу об определении спора, предметом которого являются права по ЦФА, в качестве корпоративного
Данный материал размещен в «Адвокатской Газете». В настоящей публикации приводится полностью авторский неотредактированный текст
Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон о ЦФА) устанавливает, что цифровые финансовые активы могут включать в себя такие права, как: возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов.
ЦФА — это цифровое право, которые может связываться с абсолютно любым базовым активом, в интересующем нас случае — с эмиссионной ценной бумагой, наделяющей корпоративными правами своего владельца. По смыслу законодательного определения в ЦФА могут быть включены право на получение дивидендов, право на ликвидационную квоту, право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса или без (или с правом голоса по указанным в решении о выпуске ЦФА вопросам — вполне можно представить подобное положение в уставе общества, хоть и с признанием определенной дискуссионности данного момента на современном этапе эволюции цифровых прав), право на получение информации о деятельности общества в соответствии со ст. 90,9 1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон об АО) и п. 7 Обобщения судебной практики по корпоративным спорам о предоставлении информации хозяйственными обществами, утвержденного Президиумом В С РФ «15» ноября 2023 г. — т. е. типичные права акционера. С учетом того, что ЦФА в данном случае связывается с реальным активом, цифровые финансовые активы могут содержать в себе также права владельцев привилегированных акций. В данном случае ЦФА выполняют своего рода функцию фиксации прав по акциям, эмитированным в традиционной финансовой инфраструктуре, а обладатель ЦФА, не владея акциями напрямую, вправе реализовывать свои корпоративные права.
Здесь разворачивается ситуация, при которой лицо, не являясь участником корпорации в традиционном смысле, тем не менее имеет корпоративные права. А потому встает следующая проблема: если спор, возникающий в связи реализацией прав по ценной бумаге, является корпоративным, то признается ли таковым спор, вытекающий из осуществления прав по ценной бумаге, которые предусмотрены в ЦФА в соответствии с соответствующем решением о выпуске цифровых финансовых активов? Мы оказываемся в ситуации, когда корпоративными правами может быть наделено лицо, не являющееся участником общества, членом его органа управления или стороной-третьим лицом в корпоративном договоре (п. 9 ст. 67.2 ГК РФ), а потому возникает сложность в квалификации спора, предметом которого выступает реализация обладателем цифрового финансового актива своих прав по нему.
Доктрина арбитражного процесса уже давно сетует на отсутствие законодательно закрепленного определения термина «корпоративный спор». Ст. 225.1 АПК РФ и п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Р Ф от 23.12.2021 № 46 «О применении АПК РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции» содержат перечень споров, которые признаются корпоративными, и данный перечень является открытым. Тем не менее введение в законодательство РФ цифровых прав не затронуло АПК РФ. Юридическая теория и судебная практика давно уже разработали привычку определять фактор элемента «корпоративности» в споре через разрешение вопроса: «Какой спор корпоративным не является?» — и мы пойдем тем же путем, в том числе руководствуясь возможностью применения аналогии права в соответствии с п. 5 ст. 3 АПК РФ.
Сразу можно заявить, что к корпоративным не относятся споры, связанные с выпуском цифровых финансовых активов (за исключением дополнительного выпуска ЦФА непубличным акционерным обществом); с учетом ЦФА в информационной системе; со взысканием убытков, причиненных ненадлежащим функционированием информационной системы; со сделками по купле-продаже ЦФА (за исключением крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность), а также с оспариванием сделок, в которых ЦФА неправомерно использовались в качестве средства платежа или иного встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы или оказываемые услуги. Можно с уверенностью сказать, что любые споры эмитента ЦФА или пользователя информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, с оператором этой системы ни при каких обстоятельствах не могут признаваться корпоративными.
Также корпоративным спором нельзя признать спор о выплате, предусмотренной в решении о выпуске ЦФА, без указания на базовый актив или с указанием в качестве базового актива ПИФ, индексных фондов (ETF), иных финансовых инструментов или даже бенчмарков — подобная ситуация аналогична спору о выплате по облигации или иной долговой ценной бумаге, а такие споры не признается корпоративными в соответствии с Главой 28.1 АПК РФ. При этом стоит отметить, что подавляющее большинство прав по ЦФА на российском рынке на данный момент имеет структуру долговой ценной бумаги с характерным правом получения номинальной стоимости актива с доходом в виде процента от номинальной стоимости. Невозможность корпоративного спора виднеется также в ситуации, когда базовым активом выступает цена акции, как это было, например, в случае выпусков ЦФА ПАО Банк ТКБ — 2 выпуска цифровых финансовых активов («Рост акций (с защитой) — 2», «Рост акций (с защитой) — 3») эмитент указывал базовым активом цену одной обыкновенной акции, и вследствие этого в правоотношениях между обладателем ЦФА и его эмитентом отсутствовал корпоративно-правовой элемент — выплата по цифровому финансовому активу просто зависела от цены эмиссионной ценной бумаги, но не предоставляла каких-либо иных прав по ней. Эмитент здесь фактически выпустил стейблкоин, обеспеченный своими же акциями). Таким образом, спор, возникающий при реализации цифровых прав, включающих денежные требования по ЦФА, не может быть корпоративным.
Но если ЦФА содержит в себе права обладателя требовать выплаты ему дивидендов по акциям, то здесь наличествует цифровое право, включающее в себя возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, и спор о таком праве будет признаваться корпоративным в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 225 АПК РФ. Также само содержание цифровых прав ЦФА может предусматривать структуру, аналогичную схеме договора конвертируемого займа, или подобие конвертируемой облигации — включение в цифровой финансовый актив права передачи его обладателю либо денежной суммы, либо ценных бумаг (регулирование ЦФА позволяет использовать в данном случае конструкции факультативных или альтернативных обязательств) — и спор, возникающий в случае реализации права обладателя ЦФА на передачу ему акций, будет признан корпоративным как происходящий с участием лиц, участвующих в увеличении уставного капитала юридического лица. Также корпоративным будет спор, вытекающий из реализации права требования передачи обладателю ЦФА акций АО, указанных в решении о выпуске ЦФА, в том числе и в случае наличия возможности осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, конвертируемым в акции.
Что касается корпоративных споров, возникающих в рамках непубличного акционерного общества, акционеры которого являются обладателями цифровых финансовых активов, то здесь все довольно просто: п. 2 ст. 13 Закона о ЦФА и абз. 2 п. 1 ст. 25 Закона об АО устанавливают, что ЦФА — это просто определенная форма акций, поэтому с точки зрения корпоративно-правовых и процессуально-правовых институтов здесь не будет какого-то существенного отличия от споров в рамках тривиальных непубличных акционерных обществ, акции которых не выпускались в виде ЦФА. В таких случаях участники прежде всего рассматриваются именно как субъекты корпоративного права, а субъектность цифрового права отходит на второй план и особой роли не играет. Акции, выпущенные в виде ЦФА, представляют самостоятельную ценность ввиду отсутствия базового актива: они просто рассматриваются российским законодательством как привычная ценная бумага, но эмитированная в TPP-сети оператором информационной системы. С точки зрения корпоративного права — практически никаких отличий.
Рынок ЦФА в России находится в своей самой начальной стадии становления — именно этим многие финансовые аналитики объясняют то, что практически все цифровые финансовые активы рынка РФ на данный момент представляют собой аналог облигаций. Но это не значит, что мы не должны обращать внимание на пробелы в праве, которые остро дадут о себе знать в случае роста рынка ЦФА.
ЦФА — это цифровое право, которые может связываться с абсолютно любым базовым активом, в интересующем нас случае — с эмиссионной ценной бумагой, наделяющей корпоративными правами своего владельца. По смыслу законодательного определения в ЦФА могут быть включены право на получение дивидендов, право на ликвидационную квоту, право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса или без (или с правом голоса по указанным в решении о выпуске ЦФА вопросам — вполне можно представить подобное положение в уставе общества, хоть и с признанием определенной дискуссионности данного момента на современном этапе эволюции цифровых прав), право на получение информации о деятельности общества в соответствии со ст. 90,9 1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон об АО) и п. 7 Обобщения судебной практики по корпоративным спорам о предоставлении информации хозяйственными обществами, утвержденного Президиумом В С РФ «15» ноября 2023 г. — т. е. типичные права акционера. С учетом того, что ЦФА в данном случае связывается с реальным активом, цифровые финансовые активы могут содержать в себе также права владельцев привилегированных акций. В данном случае ЦФА выполняют своего рода функцию фиксации прав по акциям, эмитированным в традиционной финансовой инфраструктуре, а обладатель ЦФА, не владея акциями напрямую, вправе реализовывать свои корпоративные права.
Здесь разворачивается ситуация, при которой лицо, не являясь участником корпорации в традиционном смысле, тем не менее имеет корпоративные права. А потому встает следующая проблема: если спор, возникающий в связи реализацией прав по ценной бумаге, является корпоративным, то признается ли таковым спор, вытекающий из осуществления прав по ценной бумаге, которые предусмотрены в ЦФА в соответствии с соответствующем решением о выпуске цифровых финансовых активов? Мы оказываемся в ситуации, когда корпоративными правами может быть наделено лицо, не являющееся участником общества, членом его органа управления или стороной-третьим лицом в корпоративном договоре (п. 9 ст. 67.2 ГК РФ), а потому возникает сложность в квалификации спора, предметом которого выступает реализация обладателем цифрового финансового актива своих прав по нему.
Доктрина арбитражного процесса уже давно сетует на отсутствие законодательно закрепленного определения термина «корпоративный спор». Ст. 225.1 АПК РФ и п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Р Ф от 23.12.2021 № 46 «О применении АПК РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции» содержат перечень споров, которые признаются корпоративными, и данный перечень является открытым. Тем не менее введение в законодательство РФ цифровых прав не затронуло АПК РФ. Юридическая теория и судебная практика давно уже разработали привычку определять фактор элемента «корпоративности» в споре через разрешение вопроса: «Какой спор корпоративным не является?» — и мы пойдем тем же путем, в том числе руководствуясь возможностью применения аналогии права в соответствии с п. 5 ст. 3 АПК РФ.
Сразу можно заявить, что к корпоративным не относятся споры, связанные с выпуском цифровых финансовых активов (за исключением дополнительного выпуска ЦФА непубличным акционерным обществом); с учетом ЦФА в информационной системе; со взысканием убытков, причиненных ненадлежащим функционированием информационной системы; со сделками по купле-продаже ЦФА (за исключением крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность), а также с оспариванием сделок, в которых ЦФА неправомерно использовались в качестве средства платежа или иного встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы или оказываемые услуги. Можно с уверенностью сказать, что любые споры эмитента ЦФА или пользователя информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, с оператором этой системы ни при каких обстоятельствах не могут признаваться корпоративными.
Также корпоративным спором нельзя признать спор о выплате, предусмотренной в решении о выпуске ЦФА, без указания на базовый актив или с указанием в качестве базового актива ПИФ, индексных фондов (ETF), иных финансовых инструментов или даже бенчмарков — подобная ситуация аналогична спору о выплате по облигации или иной долговой ценной бумаге, а такие споры не признается корпоративными в соответствии с Главой 28.1 АПК РФ. При этом стоит отметить, что подавляющее большинство прав по ЦФА на российском рынке на данный момент имеет структуру долговой ценной бумаги с характерным правом получения номинальной стоимости актива с доходом в виде процента от номинальной стоимости. Невозможность корпоративного спора виднеется также в ситуации, когда базовым активом выступает цена акции, как это было, например, в случае выпусков ЦФА ПАО Банк ТКБ — 2 выпуска цифровых финансовых активов («Рост акций (с защитой) — 2», «Рост акций (с защитой) — 3») эмитент указывал базовым активом цену одной обыкновенной акции, и вследствие этого в правоотношениях между обладателем ЦФА и его эмитентом отсутствовал корпоративно-правовой элемент — выплата по цифровому финансовому активу просто зависела от цены эмиссионной ценной бумаги, но не предоставляла каких-либо иных прав по ней. Эмитент здесь фактически выпустил стейблкоин, обеспеченный своими же акциями). Таким образом, спор, возникающий при реализации цифровых прав, включающих денежные требования по ЦФА, не может быть корпоративным.
Но если ЦФА содержит в себе права обладателя требовать выплаты ему дивидендов по акциям, то здесь наличествует цифровое право, включающее в себя возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, и спор о таком праве будет признаваться корпоративным в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 225 АПК РФ. Также само содержание цифровых прав ЦФА может предусматривать структуру, аналогичную схеме договора конвертируемого займа, или подобие конвертируемой облигации — включение в цифровой финансовый актив права передачи его обладателю либо денежной суммы, либо ценных бумаг (регулирование ЦФА позволяет использовать в данном случае конструкции факультативных или альтернативных обязательств) — и спор, возникающий в случае реализации права обладателя ЦФА на передачу ему акций, будет признан корпоративным как происходящий с участием лиц, участвующих в увеличении уставного капитала юридического лица. Также корпоративным будет спор, вытекающий из реализации права требования передачи обладателю ЦФА акций АО, указанных в решении о выпуске ЦФА, в том числе и в случае наличия возможности осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, конвертируемым в акции.
Что касается корпоративных споров, возникающих в рамках непубличного акционерного общества, акционеры которого являются обладателями цифровых финансовых активов, то здесь все довольно просто: п. 2 ст. 13 Закона о ЦФА и абз. 2 п. 1 ст. 25 Закона об АО устанавливают, что ЦФА — это просто определенная форма акций, поэтому с точки зрения корпоративно-правовых и процессуально-правовых институтов здесь не будет какого-то существенного отличия от споров в рамках тривиальных непубличных акционерных обществ, акции которых не выпускались в виде ЦФА. В таких случаях участники прежде всего рассматриваются именно как субъекты корпоративного права, а субъектность цифрового права отходит на второй план и особой роли не играет. Акции, выпущенные в виде ЦФА, представляют самостоятельную ценность ввиду отсутствия базового актива: они просто рассматриваются российским законодательством как привычная ценная бумага, но эмитированная в TPP-сети оператором информационной системы. С точки зрения корпоративного права — практически никаких отличий.
Рынок ЦФА в России находится в своей самой начальной стадии становления — именно этим многие финансовые аналитики объясняют то, что практически все цифровые финансовые активы рынка РФ на данный момент представляют собой аналог облигаций. Но это не значит, что мы не должны обращать внимание на пробелы в праве, которые остро дадут о себе знать в случае роста рынка ЦФА.
Автор: Станишевский Александр Игоревич
Источник: Блог Адвоката Александра Станишевского
Релевантное из блога
Еще об IT-праве на Telegram-канале